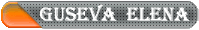Спасибо Виктории Улановой за найденную статью!
В этой статье много букв... но много реально интересного-полезного

 МАЛЬЧИК И ЕГО СОБАКА.
МАЛЬЧИК И ЕГО СОБАКА.
«ПОЧЕМУ ДЕТИ ПРОСЯТ ЗАВЕСТИ ИМ СОБАКУ И КАКАЯ ОТ НЕЁ ПОЛЬЗА СЕМЬЕ.
Кому как, а мне хочется в преддверии наших выборов побеседовать о чем-нибудь решительно и абсолютно неполитическом.
Предлагаю поговорить о собаках. Я давно собиралась, потому что это интереснейшая, между прочим, тема.
Самые разные аспекты интереснейшие — архетипы, онтогенез, психология, биология.
Начнем с моего профильного — с онтогенеза. В жизни практически каждого ребенка или подростка наступает момент,
когда он (она) хочет собаку, причем, как правило, большую — на маленькую соглашается только в виде компромисса,
когда понимает, что большую точно не заведут. Это нормальный этап развития, именно так это и следует рассматривать
родителям и самому подростку. «Онтогенез есть краткое повторение филогенеза» —
в строго биологическом смысле закон Геккеля наука как бы признала устаревшим, но в расширительно-философском
он по-прежнему красив и полезен для понимания многого.
Индивидуальное повторение того периода, когда люди приручили собак, восемнадцать тысяч лет назад.
Вообще первое животное, первый биологический вид (симбиотических микробов в кишечнике не считаем), с которым наш вид заключил завет.
И вся дальнейшая, всем, даже маленьким детям известная история — соратники, сотрудники, компаньоны, друзья.
«Собака — друг человека». Вот здесь все на самом деле не так просто, но об этом чуть позже.
А как, по-вашему, это происходило в самый-самый первый раз?
Взрослые охотники племени собрались на совет и в результате прений с голосованием решили как-то
приручить давно следующую за племенем и подбирающую обгрызенные кости стаю?
Разумеется, нет. Скорее всего, это был ребенок, младший подросток.
Именно он подобрал осиротевшего в результате какой-то трагедии щеночка или целый выводок.
Не съел их сам, спрятал от соплеменников, согрел своим телом и сам согрелся от них, и делился скудной едой,
рискуя навлечь на себя гнев и побои старших (добытая еда — собственность племени, иначе не выжить),
отдавал пушистому выкормышу убитых им зверьков. А может быть, он сам был сиротой, и может быть,
даже плакал от непонятных ему чувств (вряд ли в его языке уже были слова для их выражения), когда тепленькие язычки
зверенышей приветственно лизали его грязные руки, нос и щеки, а хвостики бешено крутились от радости при виде него.
(То есть я хочу сказать, что собаки не только помогали нам в охоте, они еще и способствовали развитию человеческой эмоциональности,
точнее, наша с ними эмоциональность последние 18 тысяч лет развивалась совместно.)
А когда пес или псы выросли — вместе с нашим подростком, ибо невероятно коротко было первобытное детство и уж тем более подростковость,
— они оказались отличными защитниками и умными помощниками в охоте, и, кроме того, их огромные зубы
невероятно повысили социальный статус их хозяина. Хомо сапиенс с самого начала своей истории были смышлены и способны к имитации —
наверняка наш бывший подросток, сопровождаемый одним или несколькими огромными псами, стал эпическим героем для всех детей
и подростков племени. Они хотели быть такими же, хотели усилить себя, жалких и слабых среди грозной первобытной природы,
большим, пушистым, дружественным и зубастым. И в чем проблема?
Когда наш современный ребенок (обычно это бывает где-то начиная с восьми-десяти лет) приходит к родителям и говорит:
«Пожалуйста, купите мне мою собаку, я буду с ней гулять и все-все для нее делать!» —
он хочет пережить тот самый этап приручения и усиления себя, индивидуальное перезаключение завета.
Может ли восьмилетний или даже десятилетний ребенок полноценно ухаживать за большой собакой в городских условиях?
Нет, не может, это для всех очевидно. К тому же большая собака существенно ограничивает мобильность семьи в целом.
Поэтому лишь немногие родители «ведутся» на просьбу ребенка. Некоторые покупают тамагочи или обещают Карлсона.
Остальные отмахиваются или серьезно и рационально объясняют невозможность.
Результат — ребенок не усилил себя и не взял ответственность, не заключил завет и не научился слушать и понимать другого
(другого по самому большому счету — пусть дружественный, но иной вид).
Ну и что? И вообще, когда это было? Вы говорите: восемнадцать тысяч лет назад?
Ну знаете! Мы давно не первобытные люди.
А ответственности у него полно: гимназия, да еще музыка, да еще репетитор по-английскому два раза в неделю…
При этом есть исследования, и их результаты однозначны:
дети, которые выросли в семьях, где есть большая собака или несколько собак, менее тревожны, более уверены в себе,
лучше строят горизонтальные отношения со сверстниками и четче понимают эмоции и потребности окружающих их людей.
Где же выход? Признать «собачий» этап развития ребенка устаревшим вместе с законом Геккеля?
Заменить его психологическими тренингами по развитию толерантности и уверенности в себе?
Я не знаю однозначного ответа. Мне кажется, тут каждый решает сам, за себя и за своих детей. У меня всегда были собаки."
P. S. «Мальчик и его собака» — блестящий рассказ-антиутопия Харлана Эллисона.
Там все, о чем я говорила выше, в сжатом и предельно заостренном виде. Катерина Мурашова
источник
https://snob.ru/selected/entry/113384